|
Письма Сенеки
|
|
| Белоснежка | Дата: Воскресенье, 2014-05-25, 3:47 PM | Сообщение # 1 |

Хранитель Ковчега
Группа: Модераторы
Сообщений: 9237
Статус: Offline
| Нравственные письма к Луцилию
Луций Анней Сенека
"Нравственные письма к Луцилию" - итоговая философская книга Сенеки, написанная им в конце жизни. Сенека учит Луцилия освобождению философическому и нравственному, освобождению от страха смерти, ненужного честолюбия, неправильных мнений.
***********
ЛУЦИЙ СЕНЕКА (4 до н. э. - 65 н. э.)
Доступно только для пользователей
Подумалось, возможно у читателей писем Сенеки появится желание сотворчества по теме. Можно озвучить какую-либо из особо понравившихся мыслей философа в новых стихах, четверостишиях, плэйкастах, коллажах или притчах!


Прогулки с Сенекой
Привет с Волшебного острова Эхо!
остров
|
| |
| |
| MгновениЯ | Дата: Среда, 2019-12-18, 5:31 PM | Сообщение # 81 |

Ковчег
Группа: Администраторы
Сообщений: 20789
Статус: Offline
| Письмо LXII
Сенека приветствует Луцилия!
Лгут те, кто хочет показать, будто куча дел не оставляет им времени для свободных наук. Такие притворяются занятыми, множат дела и сами у себя отнимают дни. А я свободен, Луцилий, свободен и принадлежу себе везде, где бы ни был. Делам я себя не отдаю, а уступаю на время и не ищу поводов тратить его впустую. В каком бы месте я ни остановился, я продолжаю свои раздумья и размышляю в душе о чем-нибудь спасительном для нее.
Предав себя друзьям, я не покидаю себя самого и подолгу остаюсь не с теми, с кем свели меня время или гражданские обязанности, а лишь с самыми лучшими: к ним я уношусь душой, в каком бы месте, в каком бы веке они не жили.
Повсюду при мне Деметрий*, лучший из людей, и, удалившись от блещущих пурпуром, я беседую с ним, полуодетым, и им восхищаюсь. И как им не восхищаться? Я вижу, что он ни в чем не чувствует недостатка. Некоторые могут все презреть, все иметь никто не может. Кратчайший путь к богатству – через презрение к богатству. А наш Деметрий живет не так. будто он все презрел, а так, будто все уступил во владение другим.
Будь здоров.
***
Деметрий Фалерский
(др.-греч. Δημήτριος Φαληρεύς, Demetrios Phalereus, 350 до н. э. — 283 до н. э.) — древнегреческий афинский государственный деятель и философ-перипатетик, ученик Теофраста.
В 317—307 годах до н.э.— абсолютный правитель (эпимелет) Афин, пользующийся покровительством македонского правителя Кассандра. Будучи у власти, сделал много для процветания города. Был вынужден покинуть Афины, когда македонское господство в городе стал оспаривать Деметрий Полиоркет. С 297 года — при дворе Птолемея I Сотера. По словам Плутарха, он получил важное придворное звание и стал «первым из друзей Птолемея». Один из основателей Александрийской библиотеки и Мусейона. Собрал и записал басни Эзопа, как сообщает Диоген Лаэртский.
Деметрий был плодовитым писателем в самых различных областях знания. У Диогена Лаэртия (V 75—85) даётся список из 45 его сочинений.
Желаю Счастья! Сфера сказочных ссылок
|
| |
| |
| Танец | Дата: Воскресенье, 2019-12-22, 4:23 PM | Сообщение # 82 |

Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 6968
Статус: Offline
| Письмо LXIII
Сенека приветствует Луцилия!
Ты тяжело переживаешь кончину твоего друга Флакка; но я не хотел бы, чтобы ты горевал сверх меры. Чтобы ты совсем не горевал, я навряд ли решусь потребовать, хоть и знаю, что это лучше. Но разве досталась в удел такая твердость духа кому-нибудь, кроме тех, кто уже стал много выше фортуны? И его такая вещь затронула бы, но только затронула. А нам можно простить и невольные слезы, если они были не слишком обильны, если мы сами их подавили. Пусть при утрате друга глаза не будут сухими и не струят потоков: можно прослезиться – плакать нельзя.
Суровый, по-твоему, закон налагаю я на тебя? Но ведь и величайший из греческих поэтов дал право лить слезы всего один день, ведь он сказал: "Даже Ниоба думала о пище".
Ты спросишь, откуда берутся стенанья, откуда безудержный плач? Мы ищем в слезах доказательства нашей тоски и не подчиняемся скорби, а выставляем ее напоказ. Никто не печалится сам для себя. Злосчастная глупость! И в скорби есть доля тщеславия!
– "Так что же, – спросишь ты, – неужели я забуду друга?" – Недолгую память обещаешь ты ему, если она минет вместе со скорбью! Скоро любой повод разгладит морщины у тебя на лбу и вызовет смех – я не говорю уже о более долгом времени, которое смягчает всякую тоску, утишает самое жгучее горе. Едва ты перестанешь следить за собой, как личина скорби спадет; ты сам сторожишь свое горе, но оно ускользает из-под стражи и иссякает тем раньше, чем было острее.
Постараемся же, чтобы память об утраченных была нам отрадна. Никто по доброй воле не возвращается мыслью к тому, о чем нельзя подумать без муки. Но пусть это неизбежно, пусть, встретив имя тех, кого мы любили и потеряли, мы чувствуем укол боли – в самой этой боли есть некая радость.
Ведь недаром наш Аттал повторял: "Воспоминанье об умерших друзьях приятно нам так же, как терпкость в некоторых плодах, как очень старое вино, которое тем и вкусно, что горчит: ведь за отдаленностью времени гаснет все, что нас мучило, и доходит до нас лишь чистая радость".
Если верить ему, то "думать о живых друзьях – все равно что есть мед и печенье, воспоминание о тех, что были, приятно не без горечи. Кто, однако, станет отрицать, что и горькое, и не лишенное остроты возбуждает желудок?"
Я, впрочем, чувствую иное, для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они были со мной, я знал, что их утрачу, когда я их утратил, я знаю, что они были со мной.
Делай же, мой Луцилий, так, как подобает твоей невозмутимости, перестань дурно истолковывать милость фортуны. То, что ею отнято, она прежде дала!
Так будем жадно наслаждаться обществом друзей – ведь неизвестно, долго ли еще оно будет нам доступно. Подумаем о том, как часто мы оставляли их, отправляясь в долгое странствие, как часто, живя в одном месте, не виделись с ними, – и мы поймем, что больше времени было упущено при их жизни.
А стерпишь ли ты таких, кто пренебрегал друзьями, а теперь горше всех рыдает, кто не любит их, пока не утратит? Они потому и скорбят так безудержно, что боятся, как бы кто не усомнился в их любви, и ищут поздних доказательств своего чувства.
Если у нас есть еще друзья, то мы плохо к ним относимся и нс ценим их, коль скоро они не могут утешить нас, заменив одного погребенного; если же он был единственным нашим другом, то не фортуна перед нами виновата, а мы сами: она отняла у нас одного, а мы ни одного не добыли.
И потом, кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил. Если с кого снимут единственную тунику, а он примется оплакивать себя, вместо того чтобы позаботиться о том, как бы избежать холода и чем-нибудь прикрыть тело, – разве ты не счел бы такого глупцом? Ты схоронил, кого любил; ищи, кого полюбить! Лучше добыть нового друга, чем плакать.
То, что я хочу прибавить, избито, я знаю, но все же не откажусь повторить только из-за того, что так говорят все. Если скорби не прекратит разум, ей положит конец время; однако для разумного человека утомление скорбью позорнейшее лекарство от скорби. Так что уж лучше сам оставь скорбь, раньше чем она тебя оставит, и поскорей перестань делать то, чего при всем желании не сможешь делать долго.
Предки установили для женщин один год скорби – не затем, чтобы они скорбели так долго, но чтобы не скорбели дольше; для мужчин нет законного срока, ибо всякий срок для них постыден. Впрочем, можешь ли ты назвать мне хоть одну бабу из тех, которых только что оттащили от костра, оторвали от трупа, которая лила бы слезы целый месяц? Ничто не становится ненавистно так быстро, как горе; недавнее находит утешителя и некоторых привлекает к себе, застарелое вызывает насмешки. И не зря: ведь оно или притворно, или глупо.
И это пишу тебе я – я, так безудержно плакавший по дорогом мне Аннее Серене, что меня (вот уж чего я не хотел!) можно привести в пример как человека, побежденного горем. Теперь я осуждаю себя за это и понимаю, что было главной причиной такого горя: я никогда не думал, что он может умереть раньше меня. Только одно было у меня перед глазами: он младше меня, и младше намного, – как будто судьба соблюдает черед!
Нам надо постоянно думать о том, что смертны и мы, и любимые нами. И мне следовало тогда сказать себе: "Мой Серен младше, – но при чем тут это? Он должен умереть позже меня, но может и раньше". Я этого не сделал и удар фортуны застиг меня врасплох. Теперь я думаю так: все смертны, и для смерти нет закона. Что может случиться всякий день, может случиться и сегодня. Так будем, мой Луцилий, помнить о том, что скоро сами отправимся туда, куда отправились оплаканные нами. И быть может, – если правдивы разговоры мудрецов и нас ждет некое общее для всех место, – те, кого мним мы исчезнувшими, только ушли вперед.
Будь здоров.
***
Хоть мир иллюзией цветёт,
Плоды реально светят нам,
Мир солнцу, звёздам, мир Мирам,
Конца творенью светов – нет.
Узор нежнейших крыльев - тут,
Страда борьбы и угнетенья,
Путь неизбежный воскрешенья
И взлет времен из пра-минут!
Мы тут!
Книгоиздательство
|
| |
| |
| MгновениЯ | Дата: Понедельник, 2020-01-20, 2:57 PM | Сообщение # 83 |

Ковчег
Группа: Администраторы
Сообщений: 20789
Статус: Offline
| Письмо LXIV
Сенека приветствует Луцилия!
Вчера ты был с нами. Ты вправе посетовать, что только вчера, но я потому и написал "с нами" – ведь со мною ты постоянно. Ко мне зашли друзья, из-за них сильнее пошел дым – не такой, что валит обычно из кухонь наших кутил, пугая караульных, а не слишком густой и только подающий знак, что пришли гости.
Речь шла у нас о многих вещах, но, как бывает на пиру, мы ни об одной не говорили исчерпывающе, а перескакивали с предмета на предмет. Потом читали книгу Квинта Секстия-отца, великого, поверь мне, человека и, хоть он это и отрицает, стоика.
О боги великие, сколько в нем силы, сколько мужества! Такое найдешь не у всякого философа. Сочинения иных ничем не блещут, кроме имени, а все остальное в них бескровно. Они наставляют, спорят, мудрствуют – только не укрепляют нас мужеством, которого у них самих нет. А прочтешь Секстия – скажешь: "Он жив, силен, свободен, он стал больше чем человеком, от него я ухожу с великой верой".
Признаюсь тебе, в каком я бываю расположенье духа, когда прочту его: мне хочется бросить вызов любому случаю, хочется воскликнуть: "Что же ты медлишь, фортуна? Нападай! Ты видишь, я готов". Мужеством я уподобляюсь тому, кто ищет, где бы испытать себя, кто хочет показать свою доблесть, кто
Страстно молит, чтоб вдруг повстречался средь смирных животных
С пенною пастью вепрь иль чтоб лев с горы появился.1
Мне хочется, чтобы было над чем взять верх, на чем закалить терпеливость. Ведь у Секстия замечательно еще и то, что он и показывает величье блаженной жизни, и не лишает надежды на нее. Ты узнаешь, что она хоть и высоко, но для желающего достижима.
Тут так же, как с самой добродетелью: ты ей дивишься – и все же надеешься. А у меня всегда много времени отнимает само созерцание мудрости: я гляжу на нее с изумлением, словно на вселенную, которую подчас вижу как будто впервые.
Да, я преклоняюсь перед всем, что создала мудрость, и перед самими создателями; мне отрадно видеть в ней наследие многих, накопленное и добытое их трудом для меня. Но будем и мы поступать, как честные отцы семейства: умножим полученное, чтобы это наследье обогащенным перешло от меня к потомкам. Много дела есть и теперь, и останется всегда, и даже тот, кто родится через сто тысяч лет, не лишен будет возможности что-нибудь прибавить к завещанному.
Но пусть даже все открыто древними всегда будет ново и применение открытого другими, и его познание и упорядоченье. Представь, что нам достались в наследство лекарства, чтобы лечить глаза; мне уже нет нужды искать новых, следует только приспособить каждое к своей болезни и применить в срок. Вот это облегчает сухость глаз, это прогоняет опухоли с век, это предотвращает внезапные воспаления и слезотеченье, это делает зрение острее. Нужно только растереть их и выбрать время, и еще найти меру для каждого. Лекарства для души найдены древними, но наше дело отыскать, как их применять и когда.
Жившие раньше нас сделали много, но не все; и все же нужно взирать на них благоговейно и чтить, как богов. Почему бы мне для поощрения души не завести у себя их статуи, не праздновать дни их рождения? Почему бы мне, почета ради, не призывать их в свидетели клятвы? Ведь если я обязан чтить своих наставников, то не меньше должен чтить и наставников человечества, в которых изначальный источник великого блага.
Разве, увидев консула или претора, я не воздам им того почета, какой положен их почетной должности? Не сойду с коня, не обнажу голову, не уступлю дороги? Так что же, неужто я не приму в сердце с величайшим почтением и обоих Марков Катонов, и Лелия Мудрого, и Сократа с Платоном, и Зенона с Клеанфом? Ведь я перед ними преклоняюсь, их великие имена возвышают и меня самого.
Будь здоров.
Желаю Счастья! Сфера сказочных ссылок
|
| |
| |
| Танец | Дата: Пятница, 2020-03-27, 3:09 PM | Сообщение # 84 |

Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 6968
Статус: Offline
| Письмо СV
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Я скажу, за чем тебе надобно следить, чтобы жить безопасней. А ты,
полагаю, выслушаешь мои наставления так, словно я поучаю тебя, как сохранить
здоровье на Ардеатинском поле1. Посмотри сам, что подстрекает человека
губить другого, - и ты увидишь надежду, зависть, ненависть, страх,
презренье. (2) Из всего названного самое легкое - это презренье: многие даже
прятались в нем ради самозащиты. Кого презирают, того, конечно, топчут, но
мимоходом. Никто не станет вредить презираемому усердно и с упорством. Даже
в бою лежачего минуют, сражаются с тем, кто на ногах. (3) Для надежды ты не
подашь бесчестным повода, если у тебя не будет ничего, способного распалить
чужую бесчестную алчность, ничего примечательного. Ведь желают заполучить
как раз примечательное и редкое, пусть оно и мало2. Зависти ты избежишь,
"если не будешь попадаться на глаза, не будешь похваляться своими благами,
научишься радоваться про себя. (4) Ненависть порождается либо обидами, - но
ее ты не навлечешь, если никого не будешь затрагивать, - либо родится
беспричинно, - но от нее тебя убережет здравый смысл. Для многих ненависть
бывала опасна: ведь иные вызывали ее, хотя и не имели врагов. Бояться тебя
не будут, если твоя удачливость будет умеренной, а нрав кротким. Пусть же
люди знают, что тебя задеть не опасно и помириться с тобою можно наверняка и
без труда. А если тебя боятся, и дома, и вне его, и рабы, и свободные, это
тебе же самому плохо: ведь повредить под силу всякому. Прибавь еще одно:
кого боятся, тот и сам боится, кто ужасен другим, тому неведома
безопасность. (5) Остается еще презренье; мера его - в твоей власти, если ты
сам принял его на себя, если такова твоя воля, а не неизбежность. Избавиться
от этой неприятности тебе помогут или свободные искусства, или дружба с
людьми, имеющими власть и влияние у власть имущих. Впрочем, к ним нужно
приближаться, но не сближаться тесно, чтобы лекарство не обошлось нам дороже
болезни. (6) А самым полезным будет не суетиться и поменьше разговаривать с
другими, побольше с собою. Есть в беседе некая сладость, вкрадчивая и
соблазнительная, и она-то не иначе, чем любовь или опьянение, заставляет
выдавать тайны. А кто услышит, тот не промолчит, кто не промолчит, тот
скажет больше, чем слышал, да и о говорившем не умолчит. У всякого есть
человек, которому доверяют столько же, сколько ему самому доверено. Пусть
первый даже не даст воли своей болтливости, пусть довольствуется одним
слушателем, - их получится целый город, и то, что недавно было тайной,
делается общим толком. (7) Еще немалый залог безопасности - не поступать
несправедливо" Кто над собою не властен, у тех жизнь полна смуты и тревоги,
от которых они никогда не свободны. Чем больше они навредят, тем больше
боятся" трепещут, сделав зло, и не могут ничего другого делать, удерживаемые
совестью, принуждающей их держать перед нею ответ. Кто ждет наказанья, тот
наказан, а кто заслужил его, тот ждет непременно. (8) Когда совесть нечиста,
можно остаться безнаказанным, а уверенным нельзя. Даже не пойманный думает,
что его вот-вот поймают, он ворочается во сне, и едва заговорят о
каком-нибудь злодействе, вспоминает о своем: оно кажется ему плохо скрытым,
плохо запрятанным. Преступник может удачно схорониться, но полагаться на
свою удачу не может.
Будь здоров.
Книгоиздательство
|
| |
| |
| Танец | Дата: Понедельник, 2020-04-06, 9:48 PM | Сообщение # 85 |

Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 6968
Статус: Offline
| Письмо CVI
Сенека приветствует Луцилия!
Я не так скоро отвечаю на твои письма не потому, что так уж обременен делами: этих оправданий можешь не слушать, ведь свободен и я, и все, – если мы только пожелаем. Дела за нами не гонятся, – люди сами держатся за них и считают занятость признаком счастья. Так почему же я сразу не написал тебе? То, о чем ты спрашивал, составляет часть моего труда.
Ведь ты знаешь, что я в нем хочу охватить всю нравственную философию и объяснить все относящиеся к ней вопросы. Вот я и колебался, отложить ли мне тебя или рассмотреть твое дело прежде, чем до него в своем месте дойдет очередь; и мне показалось, что человечнее будет не задерживать пришедшего из такой дали.
По тому я и этот предмет изыму из ряда связанных с ним и, если будет еще что-нибудь подобное, пошлю тебе по своей воле, без просьбы. Ты спросишь, что я имею в виду. – Все, о чем скорей приятно, чем полезно, знать; вроде того, про что ты задаешь вопросы: телесно ли благо?
Благо приносит пользу, то есть действует; а что действует, то телесно. Благо движет душу, в некотором роде лепит ее и удерживает, – а все это свойства тела. Телесные блага сами телесны, – а значит, и душевные блага тоже, потому что и душа есть тело.
Благо человека не может не быть телом, потому что он сам телесен. Я солгу, если не признаю, что все питающее тело или поддерживающее либо восстанавливающее его здоровье телесно; значит, и благо человека есть тело. Я думаю, ты не сомневаешься, что страсти – такие как гнев, любовь, грусть, – суть тела (мне хочется присовокупить и то, о чем ты не спрашиваешь); а если сомневаешься, погляди, меняемся ли мы от них в лице, хмурим ли лоб и распускаем ли морщины, краснеем ли и чувствуем ли, как кровь отливает от щек. Что же, по-твоему, может оставить столь явные телесные признаки, кроме тела?
А если страсти суть тела, то и душевные недуги тоже, такие как скупость, жестокость, все закоренелые и уже неисправимые пороки; а значит, и злоба со всеми ее разновидностями – коварством, завистью, спесью – тоже;
а значит, и блага тоже, во-первых, потому что они противоположны порокам, и, во-вторых, потому что явят тебе те же приметы. Неужели ты не видел, какую силу придает взгляду храбрость? какую остроту – разумность? какую кротость и покой – благочестье? какую безмятежность веселье? какую непреклонность – строгость? какую невозмутимость – правдивость? Значит, все это – тела: от них меняется и цвет кожи, и состоянье тела, над которым они и властвуют. Все названные мною добродетели суть блага, как и все, что они дают.
Как усомниться вот в чем: все, что может к чему-либо прикоснуться, есть тело?
Тело лишь может касаться и тела лишь можно коснуться, так сказал Лукреций1. А от всего названного мною наше тело не менялось бы, если бы не испытало прикосновений; значит, все это телесно.
Опять-таки, все, в чем достаточно силы, чтобы толкать вперед, принуждать, удерживать, приказывать, есть тело. Но разве страх не удерживает? Разве дерзость не толкает вперед? Разве храбрость не придает сил и не движет нами? воздержность не обуздывает и не отзывает вспять? радость не поднимает? грусть не давит?
Наконец, что бы мы ни делали, мы поступаем так по веленью либо злонравия, либо добродетели; а что повелевает телом, то и само есть тело, что дает телу силы, то тоже тело. Благо человека есть и благо его тела; значит, оно телесно.
Ну что ж, в чем ты хотел, в том я тебе угодил; а сейчас я скажу себе, что ты скажешь на это (я воочию вижу тебя): мы играем в разбойники2; тратим время на ненужные тонкости, от которых становятся не лучше, а только ученее.
Мудрость и яснее, и проще, для благомыслия довольно прочесть немного. Но и философию, как все остальное, мы загромождаем ненужностями. В чтении, как и во всем, мы страдаем неумеренностью; и учимся для школы, а не для жизни.
Будь здоров.
Книгоиздательство
|
| |
| |
| Танец | Дата: Вторник, 2020-04-07, 9:39 AM | Сообщение # 86 |

Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 6968
Статус: Offline
| Письмо СVII
Сенека приветствует Луцилия!
Где твоя разумность? где тонкое уменье разбираться во всем? где величье? Такой пустяк так тебя мучит? Рабы сочли твою занятость благоприятной для побега! Обманули бы тебя друзья (пусть они носят это имя, которое дает им наш Эпикур1, и зовутся так, чтобы им было особенно стыдно не быть друзьями на деле); а тебя покинули люди, на которых ты даром тратил труды, которые считали, что ты и другим в тягость.
Тут нет ничего необычного, ничего неожиданного. Сердиться на все эти вещи так же смешно, как жаловаться, что на улице тебя обрызгали, а в грязи ты испачкался. В жизни все – как в бане, в толчее, на дороге: одно брошено в тебя нарочно, другое попадает случайно. Жизнь – вещь грубая. Ты вышел в долгий путь, – значит, где-нибудь и поскользнешься, и получишь пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь "умереть бы!" – и, стало быть, солжешь. Здесь ты расстанешься со спутником, тут похоронишь его, там испугаешься. Через такие вот неприятности ты и должен измерить эту ухабистую дорогу.
Он желает смерти? Пусть приготовит душу ко всему, пусть знает, что явился в такое место, где гремит гром, где
Скорбь ютится и с ней грызущие сердце заботы,
Бледные ликом живут болезни, унылая старость.2
С ними и приходится проводить жизнь под одной кровлей. Бежать от них ты не можешь, презирать можешь. А презришь ты их, если часто сумеешь предвосхитить мыслью будущее.
Всякий смелее подступится к тому, к чему долго приучал себя, и будет стоек в тяготах, если думал о них заранее. А неподготовленный, напротив, испугается пустяков. Вот и надо добиваться, чтобы для нас не было неожиданностей; а так как все кажется тяжелее из-за новизны, то благодаря непрестанному размышлению ты ни в какой беде не будешь новичком.
"Рабы покинули меня!" – А другого они ограбили, обвинили, предали, затоптали, старались погубить ядом или доносом. То, о чем ты говоришь, случалось со многими. Немало стрел, и самых разных, направлено в нас; одни уже вонзились, другие метко посланы и попадут непременно, третьи, хотя попадут в других, заденут и нас.
Так не будем дивиться тому, на что мы обречены от рожденья, на что никому нельзя сетовать, так как оно для всех одинаково. Да, так я и говорю, – одинаково: ведь даже избежавший беды мог и не уйти от нее; равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены. Прикажем душе быть спокойной и без жалоб заплатим налог, причитающийся со смертных.
Зима приносит стужу – приходится мерзнуть; лето возвращает тепло – приходится страдать от жары; неустойчивость погоды грозит здоровью приходится хворать. Где-нибудь встретится нам зверь, где-нибудь – человек, опасней любого зверя. Одно отнимет вода, другое – огонь. Изменить такой порядок вещей мы не в силах, – зато в силах обрести величье духа, достойное, мужа добра, и стойко переносить все превратности случая, не споря с природой.
А природа переменами вносит порядок в то царство, которое ты видишь. За ненастьем следует ведро; после затишья на море встают волны; по очереди дуют ветры; ночь сменяется днем; одна часть неба поднимается, другая опускается; вечность состоит из противоположностей.
К этому закону и должен приспособиться наш дух, ему должен следовать, ему повиноваться; что бы ни случилось, пусть он считает, что иначе быть не могло, и не смеет бранить природу.
Лучше всего перетерпеть то, чего ты не можешь исправить, и, не ропща, сопутствовать богу, по чьей воле все происходит. Плох солдат, который идет за полководцем со стоном.
Поэтому будем проворно и без лени принимать приказы и неукоснительно продолжать прекраснейший труд, в который вплетено все, что мы терпим. Будем обращаться к Юпитеру, чье кормило направляет эту громаду, с теми же словами, что наш Клеанф в своих красноречивых стихах, которые позволил мне переложить на наш язык пример Цицерона3, красноречивейшего мужа. Понравятся они тебе – будь доволен, не понравятся – знай, что я только следовал Цицеронову примеру.
Властитель неба, мои отец, веди меня
Куда захочешь! Следую не мешкая,
На все готовый. А не захочу – тогда
Со стонами идти придется грешному,
Терпя все то, что претерпел бы праведным.
Покорных рок ведет, влечет строптивого.4
Так и будем жить, так и будем говорить. Пусть рок найдет нас готовыми и не ведающими лени! Таков великий дух, вручивший себя богу. И, наоборот, ничтожен и лишен благородства тот, кто упирается, кто плохо думает о порядке вещей в мире и хотел бы лучше исправить богов, чем себя.
Будь здоров.
***
Пусть же и нас покинут наши рабы - дурные привычки и чрезмерность потребительства в быту.
Книгоиздательство
|
| |
| |
| Белоснежка | Дата: Понедельник, 2020-06-01, 11:16 AM | Сообщение # 87 |

Хранитель Ковчега
Группа: Модераторы
Сообщений: 9237
Статус: Offline
| Письмо СVIII
Сенека приветствует Луцилия!
То, о чем ты спрашиваешь, – из числа вещей, знанье которых не дает ничего, кроме знанья. Но все-таки дает, да и ты торопишься и не желаешь дожидаться книг, охватывающих всю нравственную часть философии, хоть я как раз привожу их в порядок; поэтому рассчитаюсь с тобою, не откладывая. Однако прежде напишу, как тебе следует справляться с обуревающей тебя жаждой учения, чтобы она сама себе не стала преградой.
Нельзя хватать и там, и тут, нельзя на все набрасываться, – целым овладевают по частям. Нужно выбирать груз по силам и заниматься только тем, на что нас хватит. Черпать надо не сколько хочется, а сколько можешь вместить. Пусть только душа твоя будет благой, – и ты вместишь, сколько хочешь. Чем больше душа принимает в себя, тем она становится шире.
Этому, помню, поучал нас Аттал, когда мы осаждали его уроки, приходили первыми, а уходили последними, и даже на прогулках вызывали его на разговор, между тем как он не только с готовностью, но и с радостью шел навстречу ученикам. "И для учащего, и для учащегося, – говорил он, цель должна быть одна: польза, которую один желает принести, другой – получить".
Кто пришел к философу, тот пусть каждый день уносит с собою что-нибудь хорошее и возвращается домой или здоровее, или излечимее. Впрочем, так оно и будет: в том и сила философии, что она помогает не только приверженным ей, но и всем, кто имеет с нею дело. Если выйдешь на солнце загоришь, даже если выйдешь не ради этого; если посидишь у торговца притираньями и замешкаешься немного дольше, унесешь с собою запах; побыв рядом с философией, люди, даже не стараясь, непременно извлекут нечто полезное. Обрати вниманье, что я сказал "даже не стараясь", а не "даже сопротивляясь".
"Как так? Разве мы не знаем таких, кто много лет просидел у философов – и ничуть даже не загорел?" – Знаем, конечно, и столь постоянных и упорных, что я называю их не учениками, а жильцами философов.
Но многие приходят слушать, а не учиться, – так нас приводит в театр удовольствие, доставляемое слуху либо речью, либо голосом, либо действием. Ты увидишь немалую часть слушателей, для которых уроки философа приют на время досуга. Они и не думают избавиться там от пороков, усвоить какое-нибудь правило жизни, чтобы проверять свои нравы, но желают только услаждения слуха. А ведь некоторые приходят даже с письменными дощечками, – затем, чтобы удержать не мысли, а слова, и потом произнести их без пользы для слушающих, как сами слушали без пользы для себя. Других возбуждают благородные изречения, и они, подвижные и лицом и душой, преисполнятся тех же чувств, что и говорящий,
точно так же, как под звуки флейты приходят в возбуждение фригийские полумужи1, беснующиеся по приказу. Этих подстегивает и увлекает красота предмета, а не звук пустых слов. Если мужественно говорят о смерти или с непокорностью – о судьбе, им хочется тут же сделать все, о чем они слышали. Они поддались, они стали такими, как им велено, – если бы только душа их сохранила этот строй, если бы народ, умеющий отговорить от всего честного, сейчас же не отнял бы у них прекрасного порыва. Немногие способны донести до дому те намеренья, которыми исполнились.
Нетрудно пробудить у слушателя жажду жить правильно: природа во всех заложила основанья добра и семена добродетели; все мы для нее рождены, и когда придет подстрекатель, добро, как бы уснувшее в нашей душе, пробуждается. Разве ты не видел, каким криком оглашается театр, едва скажут что-нибудь, с чем все мы согласны и о чем нашим единодушием свидетельствуем, что это истина?
Нужда во многом бедным, жадным нужда во всем.
Скупец ко всем недобр, но злей всего – к себе.2
Этим стихам рукоплещет последний скряга, радуясь обличенью своих пороков. Но разве такое действие не было бы, по-твоему, еще сильнее, если бы спасительные наставления исходили из уст философа, если бы они были вложены в стихи, благодаря которым те же самые мысли легче проникают в души невежд?
"Ибо, – говорил Клеанф, – как наше дыханье, пропущенное сквозь длинный и тесный ход трубы, с большей силой вырывается с другого ее конца и производит отчетливый звук, так и наши чувства становятся отчетливее благодаря сжатой непреложности стихов". Сказанное прозой слушается не так внимательно и задевает меньше, а если в дело вступает размер, если благородный смысл закреплен его стопами, то же самое изреченье вонзается, будто брошенное с размаху копье.
Много говорено о презрении к деньгам, произносились в поученье людям длинные речи о том, что богатство – не в наследственном достоянье, а в душе, что богат тот, кто приспособился к своей бедности, кто, имея мало, считает себя зажиточным. Но куда сильнее поражают душу изречения вроде этих:
Кто хочет меньше, меньше и нуждается.
Имеет все, кто хочет, сколько надобно.
Слыша это или нечто подобное, мы не можем не признать истины. И вот те, кто всегда хочет больше, чем надобно, кричат от восторга и проклинают деньги. И как заметишь у них такое настроенье, – донимай их, жми, тесни, отбросив всяческие умозаключенья, и тонкости, и прочие забавы бесполезного умствования. Говори против алчности, говори против роскоши, а когда покажется, что польза есть, что души слушателей затронуты, наседай еще сильнее. Трудно поверить, как бывает полезна речь имеющая в виду исцеление, направленная целиком ко благу слушателей. Неокрепшим умам легко внушить любовь ко всему правильному и честному; да и над не слишком испорченными и податливыми истина получает право собственности, если найдет умелого ходатая.
Я сам, когда слушал, как Аттал держит речи против пороков, против заблуждений, против всякого зла в жизни, часто жалел род людской, а о нем думал, что он оставил внизу все вершины, достигаемые людьми. Сам он называл себя царем, но мне казалось, что выше царской власть того, кто вправе вершить суд над царями.
А когда он принимался восхвалять бедность и доказывать, что все ненужное есть только лишний груз, обременительный для несущего, – часто хотелось выйти с урока бедняком. Когда же он начинал осмеивать наши наслаждения, восхвалять целомудренное тело, скромный стол, чистый ум, не помышляющий не только о беззаконных, но и об излишних наслажденьях, – хотелось положить предел прожорливости брюха.
Кое-что, Луцилий, я удержал с тех пор. Приступал я ко всему с большим рвением, а потом, вынужденный вернуться к государственной жизни, немногое сохранил от этих добрых начал. Все же с тех пор я на всю жизнь отказался от устриц и грибов: ведь это не пища, а лакомство, заставляющее насытившихся есть опять, легко извергаемое и снизу, и сверху, – а это весьма по душе обжорам, запихивающим в себя больше, чем могут вместить.
С тех пор я в жизни не брал притираний: ведь лучше всего пахнет тело, которое ничем не пахнет3. С тех пор мой желудок забыл о винах. С тех пор всю жизнь я избегаю бани, сочтя, что обваривать себе тело и истощать его потением – бесполезное баловство. К прочему, оставленному тогда, я вернулся, но даже в том, от чего перестал воздерживаться, сохраняю меру, которая и ближе к воздержанию и, может быть, труднее воздержанья: ведь от чего-то легче отказаться совсем, чем сохранять умеренность.
Если уж я сказал тебе начистоту, что в молодости взялся за философию с большим пылом, чем занимаюсь ею в старости, то не постыжусь признаться, какую любовь внушил мне Пифагор. Сотион рассказывал, почему тот отказывался есть животных и почему, позже, Секстий. У обоих причины были разные, но благородные.
Один полагал, что человеку и бескровной пищи хватит и что там, где резня служит удовольствию, жестокость переходит в привычку. И еще он говорил, что нужно ограничивать число предметов, на которые зарится жажда роскоши, что разнообразная пища, чуждая нашему телу, вредна для здоровья.
А Пифагор утверждал, что есть родство всего со всем и взаимосвязь душ, переселяющихся из одного обличья в другое. Ни одна душа, если верить ему, не погибает и не перестает существовать иначе как на малое время, после которого переливается в другое тело. Мы увидим, сколько временных кругов она пройдет и сколько обиталищ сменит, прежде чем вернется в человека. А покуда она внушает людям страх совершить злодейство и отцеубийство, невзначай напав на душу родителя и железом или зубами уничтожив то, в чем нашел приют дух какого-нибудь родича.
Сотион не только излагал это, но и дополнял своими доводами: "Ты не веришь, что души распределяются по все новым и новым телам? Что именуемое нами смертью есть только переселение? Не веришь, что в теле этих скотов, этих зверей, этих подводных обитателей пребывает душа, когда-то бывшая человеческой? Что все во вселенной не погибает, а только меняет место? Не веришь, что не одни небесные тела совершают круговые движения, но и живые существа исчезают и возвращаются, и души переходят по кругу? Но в это верили великие люди!
Так что воздержись от суждения и оставь все как есть. Если это правда, то не есть животных – значит быть без вины; если неправда – значит быть умеренным. Велик ли будет урон твоей жестокости? Я только отнимаю у тебя пищу львов и коршунов".
Под его влияньем я перестал есть животных, и по прошествии года воздержанье от них стало для меня не только легким, но и приятным. Мне казалось, что душа моя стала подвижней; впрочем, сегодня я не взялся бы утверждать, что это так. Ты спросишь, как я от этого отошел? Время моей молодости пришлось на принципат Тиберия Цезаря: тогда изгонялись обряды инородцев4, и неупотребление в пищу некоторых животных признавалось уликой суеверия. По просьбам отца, не опасавшегося клеветы, но враждебного философии, я вернулся к прежним привычкам; впрочем, он без труда убедил меня обедать лучше.
Аттал всегда хвалил тот матрас, который сопротивляется телу; я и в старости пользуюсь таким, что на нем не останется следов лежанья. Я рассказал тебе об этом, чтобы ты убедился, как силен у новичков первый порыв ко всему хорошему, если их кто-нибудь ободряет и подстегивает. Но потом одно упускается по вине наставников, которые учат нас рассуждать, а не жить, другое – по вине учеников, которые приходят к учителям с намереньем совершенствовать не душу, а ум. Так то, что было философией, становится филологией.
Ведь очень важно, с каким намереньем ты к чему-либо подходишь. Кто изучает Вергилия как будущий грамматик, тот читает превосходную строку
Бежит невозвратное время5
и не думает так: "Нельзя спать! Кто не спешит, тот отстанет. Торопливый день торопит нас и мчится сам. Нас влечет все дальше незаметно для нас; а мы откладываем все на будущее и остаемся медлительными в быстрине". Нет, он заметит, что Вергилий всякий раз, говоря о быстротечности времени, употребляет глагол "бежать".
Самые лучшие дни убегают для смертных несчастных
Ранее всех; подойдут болезни, унылая старость,
Скорби, – а там унесет безжалостной смерти немилость.6
Всякий, чей взгляд направлен к философии, и это сведет, к чему следует, и скажет: "Никогда Вергилий не говорит "дни проходят", но всегда "убегают", – а это самый быстрый бег; самые же лучшие минуют первыми, – почему же мы сами себя не подгоним, чтобы сравняться скоростью с самым быстротечным из всего? Лучшее пролетает мимо, наступает худшее.
Как из кувшина выливается сперва самое чистое вино, а то, что тяжелее и мутнее, оседает, так и на нашем веку лучшее идет сначала. А мы допускаем, чтобы его вычерпали для других, оставив нам самим подонки. Так пусть запечатлеются в душе наравне с изречением оракула эти слова:
Лучшие самые дни убегают для смертных несчастных
Ранее всех.
Почему лучшие? Да потому, что остальные нам неведомы. Почему лучшие? Потому что в молодости мы можем учиться, можем направить. к лучшему неокрепшую душу, покуда она податлива; потому что это самое подходящее время для трудов, подходящее для того, чтобы взбодрить дух учеными занятьями, закалить тело работою. Остальные годы и ленивей, и расслабленнее, и ближе к концу. Так оставим же все, что нас отвлекает, и всей душой будем стараться об одном: чтобы быстротечность неудержимо бегущего времени не стала понятна нам, только когда оно уйдет. Каждый день будем считать лучшим и завладеем им! Что убегает, то нужно захватывать".
Но читающий Вергилиевы стихи глазами грамматика будет думать не о том, что каждый день – лучший, ибо подходят болезни, теснит старость, уже нависшая над головой почитающих себя юнцами, – он скажет, что поэт всегда ставит вместе "болезни и старость". И, право же, недаром: ведь сама старость есть неизлечимая болезнь.
И еще, скажет он, поэт дает старости прозвище, всегда называя ее "унылою":
... подойдут болезни, унылая старость.
И еще в другом месте:
Бледные там болезни живут, унылая старость...7
Не надо удивляться, если из одного и того же каждый извлекает лишь нечто, соответствующее его занятиям. На одном и том же лугу бык ищет траву, собака – зайца, аист ящерицу.
Если книги Цицерона "О государстве" возьмет в руки сперва какой-нибудь филолог, потом грамматик, потом приверженец философии, каждый из них обратит все усердие не на то, на что оба другие. Философ подивится, что так много можно сказать против справедливости. Филолог, если возьмется за то же чтение, отметит вот что: "Было два римских царя, из которых один не имеет матери, другой отца". Ибо есть сомнения насчет матери Сервия, а отца – у Анка не имеется, царя именуют внуком Нумы8.
И еще он заметит, что тот, кого мы называем диктатором и о ком читаем в истории' под тем же именем, у древних звался "начальником народа", что сохраняется доныне в авгуральных книгах, а доказательством служит произведенное от этого наименование "начальник конницы". Равным образом – он заметит, что Ромул погиб во время солнечного затмения и что право воззвания к народу было уже у царей; некоторые, в том числе Фенестелла, полагают, будто об атом есть в понтификальных книгах9.
Если же эти книги развернет грамматик, он прежде всего внесет в свои заметки старинные10 слова: ведь Цицерон говорит "воистину" – вместо "на самом деле", а также "оного" вместо "его". Затем грамматик перейдет к тем словам, употребленье которых изменилось за столетье; например, Цицерон говорит: "его вмешательство вернуло нас от самой известковой черты", ибо то, что у нас в цирке называется "меловой чертой", в старину именовалось "известковой"11.
Потом он соберет Энниевы стихи, прежде всего эти, написанные о Сципионе:
Кому ни гражданин, ни враг
Воздать не мог награду по трудам его.
Из этого, скажет он, понятно, что в старину слово "труды" означало также и "подвиги, дела": ведь поэт имеет в виду, что Сципиону никто, ни гражданин, ни враг, не мог воздать награду за его подвиги.
И совсем уж счастливым он сочтет себя, обнаружив, откуда, по-видимому, взял Вергилий слова:
... грохочет Неба огромная дверь.12
Энний, скажет он, похитил их у Гомера, а Вергилий – у Энния. Ведь у Цицерона в этих самых книгах "О государстве" есть такая эпиграмма Энния:
Если возможно взойти в небожителей горнюю область,
Мне одному отперта неба великая дверь.
Но чтобы мне самому, отвлекшись, не соскользнуть на путь грамматика или филолога, напоминаю тебе, что и слушать и читать философов нужно ради достижения блаженной жизни, и ловить следует не старинные или придуманные ими слова либо неудачные метафоры и фигуры речи, а полезные наставленья и благородные, мужественные высказыванья, которые немедля можно претворить в действительность. Будем выучивать их так, чтобы недавно бывшее словом стало делом.
Никто, я думаю, не оказал всем смертным столь дурной услуги, как те, кто научились философии словно некому продажному ремеслу и живут иначе, чем учат жить. Они-то, подверженные всем обличаемым ими порокам, и являют собой наилучший пример бесполезной учености.
От такого наставника мне столько же пользы, сколько от кормчего, которого в бурю валит морская болезнь. Когда несет волна, нужно держать руль, бороться с самим морем, вырывать у ветра паруса: а чем мне поможет правитель корабля, одуревший и блюющий? Разве нашу жизнь, по-твоему, буря не треплет сильнее, чем любую лодку? Нужно не разговаривать, а править.
Все, что говорится, чем бахвалятся перед заслушавшейся толпой, – заемное, все это сказано Платоном, сказано Зеноном, сказано Хрисиппом, Посидонием и огромным отрядом им подобных. А как нынешним доказать, что сказанное подлинно им принадлежит, я тебе открою: пусть поступают, как говорят.
Я сказал все, что хотел тебе сообщить, а теперь я пойду навстречу твоему желанью и то, чего ты требовал, целиком перенесу в другое письмо, чтобы ты не брался усталым за дело спорное, которое надобно слушать, с любопытством насторожив уши.
Будь здоров.
Привет с Волшебного острова Эхо!
остров
|
| |
| |
| Танец | Дата: Суббота, 2020-07-11, 3:17 PM | Сообщение # 88 |

Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 6968
Статус: Offline
| Цитата Белоснежка (  ) Не надо удивляться, если из одного и того же каждый извлекает лишь нечто, соответствующее его занятиям. На одном и том же лугу бык ищет траву, собака – зайца, аист ящерицу.Если книги Цицерона "О государстве" возьмет в руки сперва какой-нибудь филолог, потом грамматик, потом приверженец философии, каждый из них обратит все усердие не на то, на что оба другие.
Цитата Белоснежка (  ) Если уж я сказал тебе начистоту, что в молодости взялся за философию с большим пылом, чем занимаюсь ею в старости, то не постыжусь признаться, какую любовь внушил мне Пифагор.
Цитата Белоснежка (  ) Если выйдешь на солнце загоришь, даже если выйдешь не ради этого; если посидишь у торговца притираньями и замешкаешься немного дольше, унесешь с собою запах; побыв рядом с философией, люди, даже не стараясь, непременно извлекут нечто полезное. Обрати вниманье, что я сказал "даже не стараясь", а не "даже сопротивляясь"."Как так? Разве мы не знаем таких, кто много лет просидел у философов – и ничуть даже не загорел?" – Знаем, конечно, и столь постоянных и упорных, что я называю их не учениками, а жильцами философов.
Письмо CIX
Сенека приветствует Луцилия!
Ты желаешь узнать, может ли мудрый помочь мудрому. Ведь мы говорим, что мудрец преисполнен всяческим благом и достиг вершины; спрашивается, как можно принести пользу обладающему высшим благом. Мужи добра полезны друг другу: они упражняются в добродетелях и поддерживают мудрость такой, как она есть. Каждому нужен кто-нибудь, чтобы разговаривать с ним, с ним заниматься изысканьями.
Опытные борцы упражняются друг с другом, музыканта наставляет другой, равный ему выучкой. Мудрому тоже нужно, чтобы его добродетели не были праздны; и как он сам не дает себе лениться, так же не дает ему этого и другой мудрец.
Чем мудрый поможет мудрому? Подбодрит его, укажет случай поступить благородно, И еще поделится с ним мыслями, научит тому, что сам открыл. Ведь и мудрому всегда будет что открыть, будет простор для вылазок духа.
Дурной вредит дурному, делает его хуже, подстрекая в нем гнев и страх, потакая унынью, восхваляя наслажденья; и дурным людям хуже всего там, где сошлись пороки многих и негодность их слилась воедино. Значит, если заключать от противного, добрый полезен доброму. – "Чем?" – спросишь ты.
Он доставит ему радость, укрепит в нем уверенность; при виде спокойствия другого каждому станет еще отраднее. Помимо этого, один передаст другому знанье некоторых вещей: ведь мудрец знает не все, а если бы и знал, другой может придумать кратчайшие пути и показать, по каким из них возможно легко довести весь труд до конца.
Мудрец поможет мудрецу, и, конечно, не только своими силами, но и силами того, кто получает помощь. Он может сделать свое дело и покинутый на самого себя; но даже бегуну полезен ободряющий зритель. Мудрец помогает не мудрецу, а самому себе, знай это. Лиши его собственных сил – и он ни на что не годен.
Так же точно можно сказать, что в меду нет сладости: это у пробующего мед язык и небо должны так приладиться к тому или другому вкусу, чтобы он нравился, а не казался противным. Ведь есть и такие, кому из-за болезненного изъяна мед кажется горьким. Нужно обоим быть такими, чтобы один мог принести, другой извлечь пользу.
"Но раскаленное до последнего предела излишне нагревать; а достигшему высшего блага излишне помогать. Разве снаряженный всем, что требуется, землепашец просит орудий у других? Разве воин, если у него довольно оружья для боя, хочет вооружаться дальше? Так же и мудрец: ведь он достаточно и снаряжен, и вооружен для жизни".
Отвечаю на это: даже раскаленное до последнего предела нуждается в заемном жаре, чтобы остаться у этого предела. "Но жар сам себя поддерживает". – Те вещи, которые ты сравниваешь, не так уж похожи. Ведь жар всегда один, а польза бывает разная. И потом к жару, чтобы он был горячим, не нужно добавлять жар, а дух мудреца не может оставаться, как был, если рядом с мудрым не будет подобных ему друзей, с которыми он мог бы делиться добродетелями.
Прибавь к этому, что все добродетели дружны между собою. Значит, есть польза в том, чтобы любить чужие, равные твоим, добродетели и чтобы кто-нибудь любил твои. Само сходство отрадно, особенно когда схожее благородно и когда сходствующие умеют и одобрить, и снискать одобренье.
Кроме того, никто не может с толком действовать на душу мудреца, кроме мудреца, как никто не может разумно действовать на человека, кроме человека. И как для того, чтобы действовать на разум, нужен разум, так и для действия на совершенный разум нужен разум столь же совершенный.
Говорят, нам помогают и те, кто щедро дает нам вещи промежуточные: деньги, милости, безопасность и прочее, что ценится или необходимо в повседневной жизни. Так скажут и о глупце, будто этим он помогает мудрецу. Но помогать значит согласно природе действовать на душу посредством добродетели, и своей, и того, на кого ты действуешь. Это не может не быть на благо и самому помогающему: ведь заставляя другого упражняться в добродетели, он упражняет и собственную.
Но пусть мы оставим в стороне и само высшее благо и все ему способствующее, – все равно мудрые могут принести друг другу пользу. Найти другого мудреца само по себе желательно для мудрого: ведь по природе благо дорожит благом, и человек добра привязывается душою к другому такому же, словно к самому себе.
Но сам предмет наш требует перейти от этого вопроса к другому. Спрашивают, станет ли мудрец обсуждать свои дела, призовет ли он кого-нибудь на совет. – Без этого ему не обойтись, едва только доходит до дел гражданских, домашних, так сказать, смертных. Тут чужой совет нужен ему так же, как бывает нужен врач, кормчий, ходатай, посредник в тяжбе. Значит, мудрец порой принесет пользу мудрецу и тем, что убедит его. Но пригодится он и в делах великих и божественных, – тем, что будет, как мы говорили, заодно с другом стремиться к честности, сольется с ним душою и помыслами.
И потом, льнуть к друзьям, радоваться их поступкам, как своим собственным, – это согласно с природой. А не будь этого, мы лишились бы и добродетели, которая сильна повседневным упражнением. Добродетель же учит нас не тратить впустую настоящего, заранее думать о будущем, советоваться с другими и не расслабляться душою, – а не расслабляться и дать ей развернуться во всю ширь нам легче, имея кого-нибудь рядом. Значит, нам нужен друг или совершенный, или стремящийся и близкий к совершенству. Совершенный принесет пользу, коль скоро общим разумением легче найти решенье.
Говорят, человек зорче в чужих делах, чем в своих; это бывает с такими, кого ослепляет себялюбие, у кого страх отнимает способность разглядеть свою пользу. А в безопасности, не страшась ничего, эти люди становятся здравомыслящими. Но есть вещи, на которые даже мудрецы глядят пристальней, когда дело касается других. И потом мудрый дарит мудрому такую отрадную и благородную вещь, как единство желании; а в единой упряжке можно создать самый прекрасный труд.
Я выполнил все, чего ты требовал, хоть оно и входило по порядку в число вопросов, которые я собираюсь охватить в книгах о нравственной философии. Помни и о том, о чем я часто твержу тебе: все это – упражненья для нашего остроумия, и только. Я то и дело возвращаюсь к одному: а чем мне это поможет? стану ли я от этого мужественней, справедливей, воздержней? Мне пока еще не до упражнений: во враче я нуждаюсь.
Зачем же ты учишь меня тому, что знать бесполезно? Наобещал ты много, а то, что я вижу, ничтожно1. Ты говорил, что я не затрепещу, даже если вокруг меня засверкают мечи, если острие прикоснется к горлу; говорил, что я останусь безмятежен, даже если вокруг меня запылают пожары, если внезапный вихрь подхватит мой корабль и будет бросать его по всему морю. Дай же мне презирать наслажденье, презирать славу; потом ты научишь меня распутывать запутанные узлы, разбираться в двусмысленных утвержденьях, проникать взглядом в темноту, а сейчас учи необходимому.
Будь здоров.
Книгоиздательство
|
| |
| |
| Гость | Дата: Вторник, 2020-08-04, 9:41 AM | Сообщение # 89 |

Советник Хранителя
Группа: Проверенные
Сообщений: 1124
Статус: Offline
| МЫ УМИРАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Оскар Хуторянский
История Времени - Хронос
Ошибка в том, что видим смерть,
Как то, что в будущем нам будет,
А смерть идёт за нами вслед -
И каждый день взять не забудет.
Сенека Младший
Мы умираем каждый день,
Хотя мы этого не знаем,
Но каждый день мы угасаем,
Как в вечер угасает тень.
Мы расстаёмся с каждым днём
Легко. Трудней расстаться с годом.
А будний день иль в непогоду
Не жаль отдать. И отдаём.
Потом конечно удивление -
"Куда ушли златые дни?"
Мы отдаём сейчас, смотри -
Эпиграфом Сенеки мнение.
Согласен я с Сенекой Младшим,
Как, может быть, согласны вы.
Уходят дни. Увы, увы
Уже сегодня - день вчерашний.
да воздается по трудам всегда
|
| |
| |
| MгновениЯ | Дата: Среда, 2020-08-26, 12:26 PM | Сообщение # 90 |

Ковчег
Группа: Администраторы
Сообщений: 20789
Статус: Offline
| Письмо СХ
Сенека приветствует Луцилия!
Шлю тебе привет из моей Номентанской усадьбы и желаю благомыслия, то есть милости всех богов, которые всегда расположены и благосклонны к тому, кто сам к себе благосклонен. По нынешним временам тебе нужно отказаться от мысли, столь любезной некоторым, – будто каждому дан в воспитатели бог, пусть даже не сановитый, а второразрядный, из числа тех, о ком Овидий говорит; "бессмертные низкого званья". Но я хочу, чтобы, отказываясь от этого заблужденья, ты помнил одно: наши предки, верившие в него, были истинные стоики, – ведь они каждому давали либо гения, либо Юнону.
Позже мы посмотрим, есть ли у богов время быть управителями частных дел; а покуда знай: приписаны ли мы к богам или брошены ими и отданы фортуне, – ты никого не сможешь проклясть страшнее, чем пожелав ему быть в гневе на себя самого. Нет причины накликать на того, кого ты считаешь достойным кары, вражду богов: они и так враждебны ему, даже если он, по-видимому, преуспевает через их покровительство.
Присмотрись пристальней, что такое наши дела действительно, а не по названию, и ты узнаешь, что большая часть бед – это удачи, а не беды. Как часто становилась причиной и началом счастья так называемая "невзгода"? Как часто встреченное общими поздравлениями событие строит лишнюю ступень над пропастью и поднимает высоко вознесенного еще выше, как будто оттуда, где он стоял, падать безопасно?
Но и в самом падении нет никакого зла, надо только разглядеть предел, ниже которого природа никого не сбрасывала. Исход всех дел, повторяю, близок, – одинаково близок и от того места, откуда изгоняется счастливец, и от того, откуда выходит на волю несчастный. Мы сами увеличиваем расстоянье и удлиняем путь страхом и надеждой. Если ты умен, мерь все мерой человеческого удела, не преувеличивай поводов ни для радости, ни для страха. Чтобы сократить время боязни, стоит сократить и время радости.
Но почему я только убавляю это зло? Ничего вообще ты не должен считать страшным! Все, что волнует нас и ошеломляет, – пустое дело. Никто из нас не разобрался, где истина, и все заражают друг друга страхом. Никто не отважился подойти ближе к источнику своего смятения и узнать его природу, понять, нет ли в нем блага. Потому-то и верят поныне пустому заблужденью, что оно не изобличено.
Так поймем же, до чего важно вглядеться внимательнее, и станет очевидно, как кратковременны, как шатки, как безопасны причины нашей боязни. В душе у нас и теперь та же путаница, какую видел Лукреций:
Ибо как в мрачных потемках дрожат и пугаются дети,
Так же и мы среди белого дня опасаемся часто.
Так что же, разве мы и впрямь не глупее любого ребенка, если страшимся при свете?
Нет, Лукреций, это неверно, мы страшимся не при свете, а сами разливаем вокруг тьму и не видим, что нам во вред и что – на пользу; всю жизнь мы проводим в бегах и от этого не можем ни остановиться, ни посмотреть, куда ставим ногу. Вот видишь, какое безумье этот безудержный бег в темноте. А мы, клянусь, только о том и стараемся, чтобы нас отозвали попозже, и хоть сами не знаем, куда несемся, упорно продолжаем мчаться тем же путем.
Но ведь может и посветлеть, если мы захотим! Есть только один способ: усвоить знание всего божественного и человеческого, не только окунуться в него, но и впитать, почаще повторять усвоенное и все относить к себе, исследовать, что благо, что зло, а чему эти имена напрасно приписаны, исследовать, что есть честное, что есть постыдное, что есть провиденье.
Но пытливость человеческого ума не останавливается в этих пределах: ему хочется заглянуть и дальше вселенной, понять, куда она несется, откуда возникла, к какому исходу мчит все вещи их необычайная скорость. Мы же оторвали душу от этого божественного созерцания и низвели ее до низменной убогости, чтобы она стала рабыней алчности, чтобы, покинув мир и его предельные области и движущих все властителей, рылась в земле, искала, что бы еще выкопать на горе нам, не довольствующимся лежащим перед глазами.
Все, что нам на благо, наш бог и родитель поместил у нас под рукой и дал по доброй воле, не ожидая наших поисков, а все вредное спрятал поглубже. Нам не на кого жаловаться, кроме как на себя: все гибельное для нас мы сами вытащили на свет, вопреки воле скрывшей его природы. Мы обрекли душу наслаждениям, – а потворство им есть начало всех зол; мы предали ее честолюбию и молве и другим столь же пустым видимостям.
Что же мне посоветовать тебе? Что ты должен делать? Ничего нового: ведь не от новых болезней нужны нам лекарства. Прежде всего ты сам для себя должен разобраться, что необходимо и что излишне.[color=#980000][/color] Необходимое ты легко найдешь повсюду; лишнее нужно всегда искать, тратя всю душу.
Далее, тебе не за что будет так уж себя хвалить, если ты презришь золотые ложа и посуду в самоцветах. Велика ли добродетель – презреть лишнее? Восхищайся собой, когда презришь необходимое. Пусть ты можешь жить без царского убранства, – это не так уж много! Пусть тебе не нужны тысячефунтовые кабаны, языки заморских птиц и прочие чудовищные выдумки роскоши, пресытившейся целыми тушками и выбирающей из каждой только те или другие части, – я буду восхищаться тобою, когда ты презришь даже грубый хлеб, когда убедишь себя, что трава родится не только для скота, но, в случае необходимости, и для человека, когда узнаешь, что молодыми побегами деревьев тоже можно наполнить желудок, который мы набиваем ценностями, словно он может их сохранить. Насытиться можно и без прихотей. Какая разница, что поглотило брюхо, которое все равно не удержит проглоченного?
Тебе нравится видеть разложенным по блюдам все, что можно добыть на суше и на море; одно приятнее тебе, если доставлено к столу свежим, другое – если его долго откармливали и заставляли жиреть до того, что сейчас оно безудержно расплывается салом. Тебя радует наведенный с великим искусством лоск, – а между тем, клянусь, все эти с трудом добытые и разнообразно приготовленные яства, едва попав в утробу, превратятся в одинаковую мерзость. Хочешь научиться, как презирать чревоугодие? Взгляни, чем все выходит!
Я помню, как Аттал к вящему восхищению всех говорил: "Долгое время меня ослепляло богатство; я цепенел всякий раз, как видел там или здесь его блеск, и думал, что и скрытое от глаз подобно выставляемому на обозренье. Но однажды на пышном празднестве я увидел все богатства столицы, все чеканное золото и серебро, и еще многое, что дороже золота и серебра, и одежды изысканных цветов, привезенные не только из-за нашей границы, но и из-за рубежей наших врагов. Тут были толпы мальчиков, прекрасных и убранством и наружностью, там – толпы женщин, словом, все, что выставила всевластная фортуна, обозревающая свои владения.
И я сказал себе: что это, как не разжигание и без того не знающих покоя человеческих вожделений? К чему это бахвальство своими деньгами? Мы собрались здесь учиться жадности. А я, клянусь, унесу отсюда меньше вожделений, чем принес сюда. Я презираю теперь богатства не потому, что они не нужны, а потому, что они ничтожны.
Ты видел, вся эта череда, хотя шла медленно и не густо, прошла за два-три часа? Так неужто нас на всю жизнь займет то, что не могло занять и целого дня? И еще одно прибавилось: мне показалось, что богатства так же не нужны владельцам, как и зрителям.
С тех пор всякий раз, когда что-нибудь такое поразит мой взгляд, когда попадется на глаза блистательный дом, отряд лощеных рабов, носилки на плечах красавцев-слуг, я говорю себе: "Чему ты удивляешься? Перед чем цепенеешь? Все это одно бахвальство! Такими вещами не владеют – их выставляют напоказ, а покуда ими любуются, они исчезают.
Обратись-ка лучше к подлинным богатствам, научись довольствоваться малым и с великим мужеством восклицай: у нас есть вода, есть мучная похлебка, – значит, мы и с самим Юпитером потягаемся счастьем! Но прошу тебя: потягаемся, даже если их не будет. Постыдно полагать все блаженство жизни в золоте и серебре, но столь же постыдно – в воде и похлебке".
"А как же, если их не будет?" – Ты спрашиваешь, где лекарство от нужды? Голод кладет конец голоду. А не то какая разница, велики или малы те вещи, которые обращают тебя в рабство? Важно ли, насколько велико то, в чем может отказать тебе фортуна?
Эта самая вода и похлебка зависит от чужого произвола; а свободен не тот, с кем фортуна мало что может сделать, но тот, с кем ничего. Да, это так; если ты хочешь потягаться с Юпитером, который ничего не желает, – нужно самому ничего не желать". Все это Аттал говорил нам, а природа говорит всем. Если ты согласишься часто об этом думать, то добьешься того, что станешь счастливым, а не будешь казаться, то есть будешь казаться счастливым самому себе, а не другим.
Будь здоров.
Желаю Счастья! Сфера сказочных ссылок
|
| |
| |
| Шахерезада | Дата: Пятница, 2020-10-30, 4:25 PM | Сообщение # 91 |

Хранитель Ковчега
Группа: Модераторы
Сообщений: 4166
Статус: Offline
| Письмо CXI
Сенека приветствует Луцилия!
Ты спросил меня, как назвать "софизмы" по-латыни. Многие пытались дать им название, но ни одно не привилось; как видно, сам предмет для нас был неприемлем и настолько неупотребителен, что противились даже его имени. Мне самым подходящим кажется то, которое употреблял Цицерон: он называл их "изворотами", поскольку тот, кто им предался, только хитро запутывает мелкие вопросы, ничего полезного для жизни не приобретая, не став ни мужественней, ни воздержанней, ни выше духом. Зато всякий, кто занимается философией ради собственного исцеления, делается велик духом и неодолим, преисполняется уверенности и кажется тем выше, чем ближе подойдешь.
Что бывает с большими горами, чья высота плохо видна смотрящим издали, и только приблизившимся становится ясно, как вознеслись их вершины, – то же самое, Луцилий, происходит и с подлинным философом, доказывающим свою подлинность делами, а не ухищрениями. Он стоит на возвышении, всем видимый снизу вверх, и величье его истинное. Он не обувает высоких подметок и не ходит на цыпочках, наподобие тех, кто уловками прибавляет себе росту, желая казаться выше, чем на самом деле. Он доволен своим природным ростом.
Да и как ему быть недовольным, если он дорос до того, что фортуне к нему не дотянуться? Значит, рост его выше человеческого и при любых обстоятельствах остается одинаковым, будет ли теченье жизни благоприятным или же она бурно понесется через пороги трудностей. Такого постоянства не дадут хитрые извороты, о которых я только что говорил. Душа забавляется ими, но без пользы для себя, и низводит философию с ее высот в низину.
Я не стану запрещать тебе иногда ими заняться, – но только тогда, когда тебе захочется побездельничать. В том-то и вся беда, что в них есть некая приятность, они держат в плену душу, соблазненную видимостью тонкости, и не отпускают, хоть ее и зовет неодолимая громада дел, хотя всей жизни едва хватает на то одно, чтобы научиться презирать жизнь. – "А не управлять ею?" – спросишь ты. Это дело второе; ведь только тот, кто презрел ее, сумеет хорошо ею управлять.
Будь здоров.
((()))
Его божественная длань
Перстами мир творит, играя…
И не воюет, а ваяет,
А нам открыта только грань…
Его галактики,
как вдох
Перворождённого пиита,
Пред коим бездна форм разлита,
Пусть фантазирует, как бог!
Сказки - жемчуга мира
Книги Семи Морей
|
| |
| |
| Шахерезада | Дата: Пятница, 2021-01-29, 3:49 PM | Сообщение # 92 |

Хранитель Ковчега
Группа: Модераторы
Сообщений: 4166
Статус: Offline
| Письмо CXII
Сенека приветствует Луцилия!
Клянусь тебе, я и хочу образовать твоего друга, как ты желаешь, и решил сделать это, – да он слишком тверд, чтоб воспринимать, или вернее – и это еще хуже – слишком мягок, чтобы воспринимать, и сломлен долголетними дурными привычками. Я хочу привести тебе пример из нашего ремесла.
Не всякая лоза годна для прививки: та, что стара и изъедена, и та, что не окрепла и гнется, либо не принимают привоя, либо его не питают, не дают срастись с собой, не перенимают его свойств и природы. Поэтому мы и делаем обыкновенно надрез над землею, чтобы, если лоза не ответит, попытать счастья вторично и сделать новую прививку под землею.
Тот, кого ты в письме поручал мне, не имеет сил; он предавался порокам и оттого подгнил и отвердел одновременно. Он не может ни принять, ни вскормить привой разума. – "Но ведь он сам жаждет!" – Не верь! Я не хочу сказать, что он тебе лжет; он сам воображает, будто жаждет. Роскошь ему опротивела, однако он скоро снова с нею помирится.
"Но он говорит, что такая жизнь ему в тягость". – Не спорю; а кому она не в тягость? Люди и любят, и ненавидят свою жизнь. Вынесем ему приговор тогда, когда он на деле докажет нам свою ненависть к роскоши, а сейчас они только в размолвке.
Будь здоров.
***
При вдохе ты видишь сияние звёзд,
При выдохе – чёрные точки средь света,
Но как совместить вдох и выдох всерьёз,
Не знаешь,
и ищешь в сомненьях ответа.
***
Вот зеркало бьётся, осколки кипят,
Как в жерле вулкана, но кто примет яд...
Сказки - жемчуга мира
Книги Семи Морей
|
| |
| |
| Шахерезада | Дата: Пятница, 2021-02-12, 11:26 AM | Сообщение # 93 |

Хранитель Ковчега
Группа: Модераторы
Сообщений: 4166
Статус: Offline
| Письмо CXIII
Сенека приветствует Луцилия!
Ты требуешь написать тебе, что я думаю о вопросе, так часто обсуждаемом нашими: одушевленные ли существа справедливость, мужество, разумность и прочие добродетели. Такими тонкостями, Луцилий, мы только одного и добьемся: всем покажется, будто мы заняты пустыми упражнениями ума и от нечего делать предаемся бесполезным рассуждениям. Я поступлю, как ты требуешь, и изложу мненье наших. Но признаюсь, сам я сужу об этом иначе. Есть вещи, которые пристали только носящим сандалии да короткий плащ1. Итак, вот что занимало древних, или вот чем занимались древние.
Душа, бесспорно, одушевлена, поскольку и нас делает одушевленными, и все одушевленные существа получили от нее имя. Добродетель же есть не что иное, как душа в известном состоянии; значит, и она одушевлена. Далее: добродетель производит действие, а это невозможно для того, в чем нет самодвиженья; если же самодвиженье, присущее только одушевленным предметам, есть в ней, то и она одушевлена. "Но если добродетель одушевлена, то она обладает добродетелью". – А почему бы ей не обладать самой собою?
Как мудрец все делает через добродетель, так и сама добродетель. – "Стало быть, одушевлены и все искусства, и все, что мы думаем, все, что наш дух объемлет собою, и в тесноте нашего сердца обитает много тысяч одушевленных существ, а каждый из нас – это множество живых существ, либо каждый содержит в себе множество их". – Ты спрашиваешь, что отвечают в опроверженье этого? Каждый из названных предметов одушевлен, но вместе они множеством одушевленных существ не будут. – "Как так?" – Я скажу тебе, если ты приложишь все свое вниманье и сообразительность.
Отдельный одушевленный предмет должен иметь отдельную сущность, а у этих всех душа одна; значит, быть отдельными они могут, быть множеством не могут. Ведь я – и человек, и живое существо, но ты не скажешь, что нас двое. Почему? Потому что двое должны существовать порознь, иначе говоря, должны быть отделены друг от друга, чтобы их было двое. А что множественно внутри единого, то относится к одной природе и, значит, существует как одно.
И душа моя одушевлена, и сам я – существо одушевленное, однако нас не двое. Почему? Потому что душа есть часть меня самого. Любой предмет может считаться отдельно, если он самостоятелен, а где он – лишь член другого предмета, там его нельзя рассматривать как нечто особое. – "Почему?" – Я отвечу: все особое должно принадлежать самому себе и быть завершенным в себе независимым целым.
Я признавался тебе, что сам сужу об этом иначе. Ведь если с этим согласиться, то не одни добродетели окажутся одушевленными существами, но и противоположные им пороки и страсти, такие как гнев, скорбь, страх, подозренье. Можно пойти еще дальше: одушевленными будут все наши мысли, все сужденья, – а с этим уж никак нельзя согласиться. Ведь не все, что исходит от человека, есть человек.
"Что такое справедливость? Некое состояние души. Значит, если душа одушевлена, то и справедливость также". – Нет, она есть состояние души и некая ее сила. Одна душа превращается во множество обличий, но не становится другим существом всякий раз, как совершает нечто другое; и то, что исходит от нее, не есть одушевленное существо.
Если и справедливость – одушевленное существо, и мужество, и прочие добродетели, то перестают ли они порой существовать, а потом снова возникают, или же пребывают всегда? Добродетели перестать существовать не могут, значит, в одной душе теснится множество, несчетное множество живых существ.
"Но их не множество, все они привязаны к одному и остаются частями и членами одного и того же". – Значит, мы представляем себе душу подобьем гидры со многими головами, из которых каждая сама по себе сражается, сама по себе жалит. Но ведь ни одна из этих голов не есть одушевленное существо, все они – головы одного существа; и вся гидра одно существо. А в химере ни льва, ни змея нельзя назвать отдельными существами: они – части химеры и, значит, отдельными существами не могут быть. Из чего ты можешь сделать вывод, будто справедливость – одушевленное существо?
"Она оказывает действие, приносит пользу, обладает движением, а обладающее им есть одушевленное существо". Это было бы правильно, если бы она обладала самодвижением; но справедливость движима не самою собой, а душою.
Всякое живое существо до самой смерти остается тем же, чем появилось на свет; человек, покуда не умрет, остается человеком, лошадь – лошадью, собака – собакой, и перейти одно в другое не может. Справедливость – то есть душа в неком состоянии – существо одушевленное. Что же, поверим! Далее, одушевленное существо есть и храбрость – также душа в неком состоянии. Какая душа? Та же, которая только что была справедливостью? Одушевленные существа остаются, чем были, им не дано превратиться в другое существо и положено пребывать в том же виде, в каком они появились на свет.
Кроме того, одна душа не может принадлежать двум существам, а тем более – многим. Если справедливость, мужество, умеренность и все прочие добродетели одушевленные существа, как же может быть у них одна душа на всех? Нужно, чтобы у каждой была своя, – или же они не будут одушевленными существами.
Одна тело не может принадлежать многим существам, – это и наши противники признают. Но что есть тело справедливости? Душа! А тело мужества? Опять-таки душа! Не может быть у двух существ одно тело.
"Но одна и та же душа переходит из состояния в состояние, становясь то справедливостью, то мужеством, то умеренностью". – Могло бы быть и так, если бы душа, став справедливостью, переставала быть мужеством, став мужеством, переставала бы быть умеренностью; но ведь все добродетели пребывают одновременно. Так как же могут они быть отдельными существами, если душа одна и не может стать больше чем одним существом?
И потом, ни одно одушевленное существо не бывает частью другого, справедливость же – часть души и, следовательно, не есть одушевленное существо. Мне кажется, я напрасно трачу силы, доказывая вещи общепризнанные. Тут скорее уместно негодование, а не спор. Ни одно существо не бывает во всем подобно другому. Осмотри все и вся: каждое тело имеет и свой цвет, и свои очертанья, и свою величину.
В числе причин, по которым удивителен разум божественного создателя, я полагаю и ту, что среди такого обилия вещей он ни разу не впал в повторенье: ведь даже на первый взгляд похожее оказывается разным, если сравнить. Сколько создал он разновидностей листьев – и у каждой свои особые приметы, сколько животных – и ни одно не сходствует2 с другим полностью, всегда есть различия. Он сам от себя потребовал, чтобы разные существа были и не похожи, и не одинаковы. А добродетели, по вашим же словам, все равны: значит, они не могут быть одушевленными существами.
Кроме одушевленного существа, ничто не может действовать само собою; но добродетель сама собою и не действует – ей нужен человек. Все существа делятся на разумных, как человек и боги, и неразумных, как звери и скоты; добродетели непременно разумны, но притом и не боги и не люди; значит, они не могут быть одушевленными существами.
Всякое разумное существо, чтобы действовать, должно быть сперва раздражено видом какой-либо вещи, затем почувствовать побужденье двинуться, которое наконец подтверждается согласием. Что это за согласие, я скажу. Мне пора гулять; но пойду я гулять только после того, как скажу себе об этом, а потом одобрю свое мнение. Пора мне сесть но сяду я только после этого. Такого согласия добродетель не знает.
Представь себе, к примеру, разумность; как может она дать согласие: "пора мне гулять"? Этого природа не допускает: разумность предвидит для того, кому принадлежит, а не для себя самой. Ведь она не может ни гулять, ни сидеть; значит, согласия она не знает, а без согласия нет и разумного существа. Если добродетель – существо, то существо разумное; но она не принадлежит к разумным, а значит, и к одушевленным существам.
Если добродетель – одушевленное существо, а всякое благо есть добродетель, значит, всякое благо – одушевленное существо. Наши это и признают. Спасти отца – благо, внести в сенате разумное предложение – благо, решить дело по справедливости благо; значит, и спасенье отца одушевленное существо, и разумно высказанное предложение одушевленное существо. Тут дело заходит так далеко, что нельзя не засмеяться. Предусмотрительно промолчать – благо, хорошо поужинать – благо, значит, и молчанье, и ужин одушевленные существа!
Право, мне хочется подольше пощекотать себя и позабавиться этими хитроумными глупостями. Если справедливость и мужество – одушевленные существа, то они и существа земные. Всякое земное существо мерзнет, хочет есть и пить; значит, справедливость мерзнет, мужество хочет есть, милосердие – пить.
И еще, почему бы мне не спросить, каков облик этих существ? Человеческий, лошадиный, звериный? Если они припишут им круглую форму, как богу3, я спрошу: а что, жадность, мотовство, безрассудство тоже круглы? Ведь и они – одушевленные существа. Если они их тоже округлят, я опять-таки спрошу: а гулянье в меру одушевленное существо? Им придется согласиться, а потом сказать, что и гулянье, будучи существом одушевленным, кругло.
Впрочем, не думай, будто я первым из наших стал говорить не по предписанному, а по своему разумению. И между Клеанфом и его учеником Хрисиппом не было согласья в том, что такое гулянье. Клеанф говорит, что это дух посылается руководящим началом4 к ногам, а Хрисипп – что это само руководящее начало. Так почему бы каждому, по примеру самого Хрисиппа, не заявить о своей самостоятельности и не высмеять все это множество существ, которого и весь мир не вместит?
"Добродетели – это не многие существа, но все же существа. Как человек бывает поэтом и оратором, оставаясь одним человеком, так и добродетели – существа, но не многие. Душа справедливая, и разумная, и мужественная – это все одна душа, только состояние ее меняется соответственно добродетелям".
Ладно, вопрос снят. Ведь и я покамест признаю душу существом одушевленным, а потом погляжу, какого суждения мне на этот счет держаться; но вот что деянья души суть одушевленные существа, я отрицаю. Не то и все слова окажутся одушевленными, и все стихи. Ведь если разумная речь – благо, а благо – существо одушевленное, значит, и речь тоже. Разумные стихи благо, благо – одушевленное существо, значит, и стихи тоже. Выходит, что" "Битвы и мужа пою" – одушевленное существо, только его не назовут круглым, коль скоро оно о шести стопах5.
Ты скажешь: "Вот уж, право, занялся хитросплетеньями!" А я лопаюсь со смеху, когда воображаю себе одушевленными существами и солецизм, и варваризм, и силлогизм, и придумываю для них, на манер живописца, подходящие обличья. Вот о чем мы рассуждаем, нахмуря брови и наморщив лоб. Тут я не могу не сказать вместе с Цецилием6: "О глупости унылые!" Смешно все это! Лучше займемся чем-нибудь полезным и спасительным для нас, поищем, как нам пробиться к добродетели, где ведущие к ней дороги.
Учи меня не тому, одушевленное ли существо храбрость, а тому, что ни одно существо не бывает счастливым без храбрости, если не укрепит себя против всего случайного и не усмирит в мыслях все превратности еще раньше, чем испытает их. Что такое храбрость? Неприступное укрепление, обороняющее человеческую слабость; кто возвел его вокруг себя, тот безопасно выдержит осаду жизни: ведь у него есть свои силы, свое оружие.
Тут я хочу привести тебе изреченье нашего Посидония: "И не думай, будто оружье фортуны избавит тебя от опасностей, – бейся твоим собственным! Фортуна против себя не вооружит. Значит, даже" снаряженные против врага – против нее безоружны".
Александр разорил и обратил в бегство и персов, и гиркан7, и индийцев, и все племена, сколько их есть на востоке вплоть до Океана; а сам, одного друга потеряв, другого убив8, лежал в темноте, один раз горюя о своем злодеянии, в другой – тоскуя об утрате. Победитель стольких царей и народов поддался гневу и печали: ведь он старался подчинить своей власти все, кроме страстей.
Какими заблужденьями одержимы люди, которые жаждут распространить за море свое право владения, считают себя счастливей всех, если займут военной силой множество провинций, присоединив новые к старым, – и не знают, в чем состоит безграничная богоравная власть! Повелевать собою вот право величайшего из повелителей.
Пусть научат меня, сколь священна справедливость, блюдущая чужое благо и ничего не добивающаяся, кроме одного: чтобы ею не пренебрегали. Ей нет дела до тщеславия, до молвы: она сама собой довольна. Вот в чем каждый должен убедить себя прежде всего: "Я должен быть справедлив безвозмездно!" Мало того! Пусть убедит себя вот в чем: "Этой прекраснейшей из добродетелей я рад буду пожертвовать всем!" Пусть все помыслы отвернутся прочь от твоих собственных выгод! Нельзя смотреть, будет ли за справедливое деяние награда помимо самой справедливости!
Запомни и то, что я говорил тебе недавно: неважно, многие ли знают о твоей справедливости. Кто хочет обнародовать свою добродетель, тот старается не ради добродетели, а ради славы. Ты не хочешь быть справедливым, не получая взамен славы? А ведь тебе, клянусь, придется быть справедливым и получить взамен поношенье! И тогда, если ты мудр, тебе будет отрадно дурное мнение, которое ты снискал добром.
Будь здоров.
***
Среди всех философов-стоиков Сенека больше всего говорит об осознанной разумом совести.
Для человека всякое благодеяние есть добродетельный поступок, награда за который — в нём самом, даже если за благодеяние не платят благодарностью.
Одного знания добра недостаточно, необходима ещё и активная воля
к совершению добра. И направить нашу волю к добру должна
нравственная категория — совесть.
Сказки - жемчуга мира
Книги Семи Морей
|
| |
| |
| Шахерезада | Дата: Четверг, 2021-03-04, 2:27 PM | Сообщение # 94 |

Хранитель Ковчега
Группа: Модераторы
Сообщений: 4166
Статус: Offline
| Цитата Шахерезада (  ) Пусть научат меня, сколь священна справедливость, блюдущая чужое благо и ничего не добивающаяся, кроме одного: чтобы ею не пренебрегали. Ей нет дела до тщеславия, до молвы: она сама собой довольна. Вот в чем каждый должен убедить себя прежде всего: "Я должен быть справедлив безвозмездно!" Мало того! Пусть убедит себя вот в чем: "Этой прекраснейшей из добродетелей я рад буду пожертвовать всем!" Пусть все помыслы отвернутся прочь от твоих собственных выгод! Нельзя смотреть, будет ли за справедливое деяние награда помимо самой справедливости!Запомни и то, что я говорил тебе недавно: неважно, многие ли знают о твоей справедливости.

Сказки - жемчуга мира
Книги Семи Морей
|
| |
| |
| Лара_Фай-Родис | Дата: Вторник, 2021-04-20, 5:50 PM | Сообщение # 95 |

Ковчег
Группа: Модераторы
Сообщений: 1886
Статус: Offline
| 
Сообщение отредактировал Лара_Фай-Родис - Вторник, 2021-04-20, 5:51 PM |
| |
| |
| Лара_Фай-Родис | Дата: Вторник, 2021-04-20, 5:54 PM | Сообщение # 96 |

Ковчег
Группа: Модераторы
Сообщений: 1886
Статус: Offline
| 
Мысли - начало поступков
|
| |
| |
| Лара_Фай-Родис | Дата: Вторник, 2021-04-20, 5:56 PM | Сообщение # 97 |

Ковчег
Группа: Модераторы
Сообщений: 1886
Статус: Offline
| 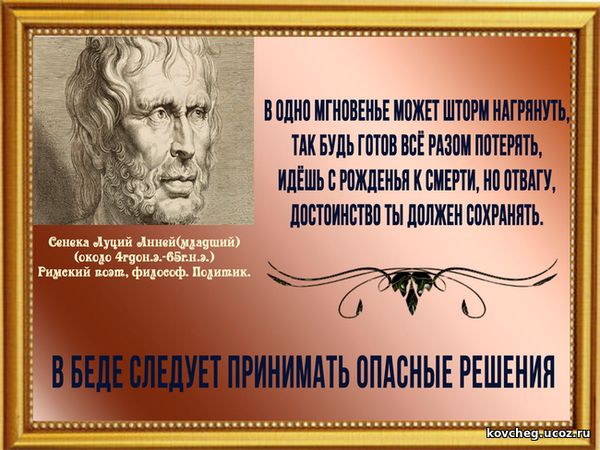
Мысли - начало поступков
|
| |
| |
| Лара_Фай-Родис | Дата: Вторник, 2021-04-20, 6:01 PM | Сообщение # 98 |

Ковчег
Группа: Модераторы
Сообщений: 1886
Статус: Offline
| 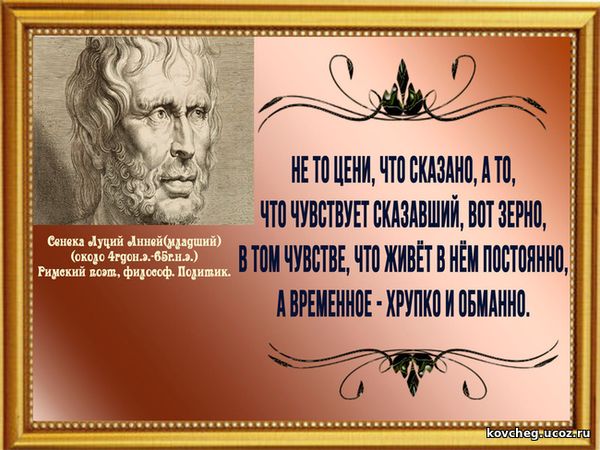
Мысли - начало поступков
|
| |
| |
| Танец | Дата: Вторник, 2021-04-20, 7:10 PM | Сообщение # 99 |

Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 6968
Статус: Offline
| Лара_Фай-Родис, сердечно благодарю за прекрасное сотворчество!
Книгоиздательство
|
| |
| |
| Танец | Дата: Среда, 2021-04-21, 11:59 AM | Сообщение # 100 |

Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 6968
Статус: Offline
| СТОИЦИЗМ И ФИЛОСОФИИЯ ХХ ВЕКА. СТОИЧЕСКОЕ "ПОСТИЖЕНИЕ"- КАК АНТИЧНАЯ ФОРМА ФЕНОМЕНОЛОГИИ ГУССЕРЛЯ.
Вот проблемная и интересная тема, на мой взгляд
Явление культуры не может быть понято только на основе научной методологии, для этого требуется восприятие явления всей целокупностью познавательных способностей. Это было понято еще стоиками. Случайность истории не дает нам в должной мере оценить творчество ведущих античных философов времени – древних стоиков, хотя объем их произведений по всем областям философии и иных знаний был необъятен. Если кого и считать за основную фигуру древней европейской философии, то это не Платон или Аристотель, а стоик Хрисипп. Так это и понималось древними. Но традиция имеет специфику двигаться извилистыми путями, а потому волей судьбы и цепи случайностей мы имеем в качестве «главных философов» Платона и Аристотеля. Тем не менее, хотя тексты древних стоиков до нас не дошли, стоицизм через свое мощное влияние на все сферы нашел выражение в других памятниках эллинистической культуры, ставших фундаментом новоевропейской. Через такой механизм неявной традиции он стал не только традицией, а прямо-таки бессознательным архетипом всей европейской культуры. И вся современная философия XX века большей частью – всего лишь реконструкция учения стоицизма, данная в различных вариантах. Основы современной логики и философии языка, основы феноменологии и её теории феноменологической редукции и интенциональности, основы психоанализа (у стоиков половая способность включалась в познавательные способности души), основы экзистенциализма – все это было разработано стоиками. К примеру, философия Хайдеггера – это развитая в подробностях и, к сожалению, изложенная тяжелым языком философия Марка Аврелия, в которой также как и в философии М. Хайдеггера ярко выражена темпоральность человеческого присутствия в мире. Как правильно подчеркивает А.Столяров: «..стоическая гносеология представляет собой едва ли не первую (и еще очень несовершенную) попытку обойтись без «идей» как посредствующего звена, при по¬мощи некоторой интуиции «схватить» чувственную реальность «как она дана» в своей изменчивости и текучести» (Столяров А.А. Стоя и стоицизм М.,1995. С.68). «Каталептическое» («постигающее») представление - основной «конёк» эпистемологии стоицизма, получивший, как свидетельствуют источники, популярность в среде афинской интеллигенции. Сутью этого «постигающего» представления является стремление соединить разделенные непроходимой стеной со времен Парменида и Платона эйдетический мир «истины» и чувственный мир «мнений». Стоики пошли по пути Аристотеля, который стремился также объединить два этих мира, используя понятия «формы» и «материи» на основе энергетической концепции. Но они более эффективно разрешили эту проблему, максимально приблизив два этих мира. Как подчеркивал А.Лосев: «Если Аристотель отличается от Платона тем, что он приковал самостоятельные эйдосы, эти идеальные формы вещей, к самим вещам, то стоики отличаются от Аристотеля тем, что они еще дальше пошли в приближении идей к вещам, а именно тем, что они окончательно растворили идеальность в самих вещах и ее собственную структурность стали понимать по аналогии с напряженностью физических качеств, принципиально отождествляя и смешивая то и другое» (Лосев А.Ф. История ант эстетики. Ранний эллинизм.с.175)
Постигающее представление – это разумно-оформленное представление. Представление, которое максимально ясно и понятно человеческому уму, в котором ум внутренне убежден, что оно истинно.
По свидетельству Секста Эмпирика стоики утверждали «…что существует три [начала], объединенные одно с другим: наука, мнение и расположенное на границе между ними постижение. Из них наука – это непогрешимое, устойчивое, непреложное постижение при помощи разума; мнение – это бессильное и ложное одобрение; постижение же – посреди этого, будучи одобрением со стороны постигающего представления» (Секст Эмпирик Соч. т.1 с.91)
Стоики, по свидетельству Секста Эмпирика, утверждали, что наука существует лишь для учёных, мнение – для глупых, а вот «постижение» общее для всех. Тем более, что стоики утверждали, что полное знание недостижимо, хотя и нельзя сказать, что мы ничего не знаем. Мы можем «схватить» нечто похожее на истину, которая есть, нечто среднее между знанием и мнением. Зенон давал такое понимание «каталептического» представления или постижения. Он показывал ладонь с растопыренными пальцами, говоря – это впечатление; далее он слегка сгибал пальцы ладони, говоря, что это согласие; наконец он сжимал ладонь в кулак – и говорил – это постижение (схватывание).
Метафизик, 26 Ноябрь, 2015 - 14:11
Книгоиздательство
|
| |
| |


 Традиции Галактического Ковчега тут!
Традиции Галактического Ковчега тут!
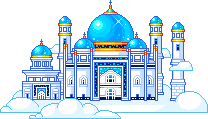
 ..
.. ..
.. ..
..
 ..
..